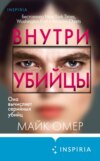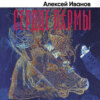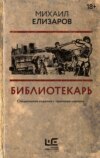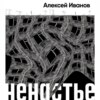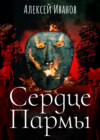Озорная джига: что происходит с современной прозой в 2024 году
Последние годы неизбежно растет количество современной прозы. Притом, несмотря на предрассудки, читатель открывает имена не только российских авторов, но и зарубежных, неизвестных до этого. И иногда кажется: информации вокруг так много, что в ней впору утонуть. Подготовили спасательный круг! Татьяна Соловьева, главный редактор издательства «Альпина.Проза», рассказывает, зачем молодые авторы выворачивают душу наизнанку, как Гарри Поттер изменил сознание писателей и какой роман в 2024 году можно назвать успешным? Бонусом – книжные ожидания Татьяны.
А если вы всегда мечтали написать собственный роман, самое время принять участие в конкурсе Литрес Самиздат, «Альпины.Прозы» и CWS «Книготерапия». Становитесь частью современного литературного контекста. Это не так сложно. Но спойлеры в сторону!
Современная проза «здесь» и «там»: есть ли отличие между российской и зарубежной в 2024 году?

Литература всегда в той или иной мере отражает время, в которое пишется. Она всегда продукт той эпохи, в которую создается текст, какой бы условный мир ни конструировал автор, как бы ни пытался дистанцироваться от актуальной реальности. В чем это выражается? Прежде всего в так называемом гипертексте – в осмыслении и усвоении, с одной стороны, претекстов, а с другой, в литературной традиции и моде (слово используется без негативных коннотаций). Поэтому проза, написанная на русском языке, никогда не тождественна переведенной: не потому что кто-то лучше или хуже, а потому, что произведения создаются и функционируют в разных реалиях.
Проза миллениалов, о которой часто пишут в последнее время, демонстрирует широкий диапазон тем и писательских манер, зависящих в том числе от страны, где живет автор. Очевидно, что 1990-е и 2000-е годы Салли Руни (Ирландия), иконы миллениальской прозы, разительно отличались от того же исторического периода Веры Богдановой (Россия) или Рисы Ватаи (Япония).
Повлияли на авторов совершенно разные явления и события. Но при этом можно выделить какие-то общие черты. Например, стремление прислушиваться к себе и анализировать собственные желания, столкновение личных интересов с общественным мнением и прочие черты первого поколения, для которого психологические практики стали чем-то обыденным.
Есть и еще один нюанс: мы имеем дело не просто с той прозой, которая пишется в тот или иной период, но с той прозой, которая в него издается. То есть мы говорим не только о темах, волнующих конкретного писателя, а о представлениях издателей о том, что в настоящее время востребовано и актуально для того или иного рынка. И дальше уже зарубежные агенты и издатели покупают у правообладателей права на произведения, которые прошли первичный фильтр рынка.
Таким образом, в распоряжении читателя переводной литературы продукт оказывается после двойного или тройного отсева. Обычно это либо какие-то универсальные темы, понятные людям во всем мире, либо, напротив, что-то колоритное, цепляющее своей экзотичностью. А проза, написанная на русском языке, в этом смысле демонстрирует больший диапазон для русскоязычного же читателя. Включается момент узнавания, считывания подтекстов и так далее. Это очевидное преимущество чтения на языке оригинала, а потому издатели могут позволить себе рискнуть и выпустить что-то более экспериментальное, выходящее за рамки мейнстрима.
Книги:
Вера Богданова, «Сезон отравленных плодов»
Антон Секисов, «Комната Вагинова»
Салли Руни, «Разговоры с друзьями»
Шамиль Идиатуллин, «За старшего»
Об «отцах» и «детях»: разница между прозой молодых авторов и признанных мастеров

С одной стороны, количество сюжетов в мировой литературе неизменно. С другой, каждое поколение обязательно рождает определенной набор нарративных практик, которые становятся приметой времени в искусстве.
Сейчас основное отличие видится в большей фиксации молодым поколением собственного опыта. Причем это касается не только автофикшна (хотя он, безусловно, наиболее показателен в этом смысле), но и художественной прозы как таковой. То, что сегодня принято называть литературой травмы или новой искренностью, демонстрирует жанровое и стилистическое разнообразие, в актуальной литературе наступает время частных историй, которые существенно потеснили жанр классического романа, семейной саги и так далее.
Еще одна примета времени – это магическое мышление. Выросло поколение, воспитанное «мальчиком, который выжил», «Хоббитом», «Властелином колец» и «Хрониками Нарнии», и для огромного числа людей, входящих в литературу в последнее десятилетие, значение этих текстов невозможно переоценить. Это книги, с которых началась их осознанная любовь к чтению, и это не могло не повлиять на их писательские манеры. Речь, конечно, далеко не только и не столько о финансовом успехе – соблазн создать вселенную, оказаться в которой будет мечтать весь мир, весьма силен.
Формирование же более старших писательских поколений происходило в совершенно других реалиях, когда существовало два основных типа художественных текстов: подцензурные и неподцензурные (был еще, правда, третий, находящийся между этими полюсами). Таким образом, для поколения нынешних «отцов» становится более важным осмысление позднесоветского и постсоветского опыта, внимание к семейной истории на фоне государственной или постмодернистские деконструктивные практики, рождающие новые смыслы на обломках старой эстетической системы.
Книги
Виктор Ремизов, «Вечная мерзлота»
Александр Архангельский, «Бюро проверки»
Екатерина Манойло, «Отец смотрит на запад»
Хелена Побяржина, «Валсарб»
Лиана Мориарти, «Яблоки не падают никогда»
Были враги, стали друзья

Некоторое время назад для русской прозы было характерно четкое, почти воинственное, деление на «большую» и жанровую литературу. Миры и писательские, и читательские, совершенно не пересекались. Однако в последнее время тенденция взаимного проникновения налицо.
Писатели-реалисты все чаще прибегают к фантдопущениям в своих произведениях для того, чтобы создать наиболее яркую метафору времени или гротескно усилить какую-либо тенденцию. Причин этому несколько.
Во-первых, уже названное влияние цикла о Гарри Поттере на целое поколение.
Во-вторых, темпы научно-технического прогресса таковы, что игнорировать его и избегать, говоря о настоящем, оказывается невозможным.
Наконец, в-третьих, все самые яркие и заметные книжные события, как правило, рождаются на стыке жанров, на неожиданном соединении того, что раньше никто соединить не додумывался.
Писатели, которые начинали с фантастики и фэнтези, берутся за реалистические произведения: Эдуард Веркин, Шамиль Идиатуллин, Анастасия Максимова (Уна Харт).
И напротив, признанные «реалисты» вводят магические, фольклорные мотивы или фантдопущения в свои произведения: таковы «Оправдание Острова» Евгения Водолазкина, «Оккульттрегер» Алексея Сальникова, «Легкая голова» Ольги Славниковой.
Использование жанровых элементов служит нескольким целям. Оно позволяет заложить мифологический или архетипический подтекст, расширяющий смысловое поле романа; помогает создать произведение-метафору, осмысляющее опыт не буквально, а иносказательно; акцентирует внимание на технических и социальных трендах и тенденциях, гиперболизируя их; или наоборот работает на литературный эскапизм в подчеркнуто вымышленный мир, действующий по собственным законам, отличающимся от окружающей реальности.
Книги
Евгений Водолазкин, «Оправдание Острова»
Александра Шалашова, «Салюты на той стороне»
Алексей Сальников, «Оккульттрегер»
Дмитрий Захаров, «Комитет охраны мостов»
Денис Лукьянов, «Век серебра и стали»
Шуты или просветители? Чем заняты писатели

Во все времена именно автор решает, что ляжет в основу произведения: увлекательная история, какой-то писательский прием (например, совмещение разных поэтик, деконструкция привычного жанра) или внутренний мир страдающего героя. Та исходная точка, которая запускает творческий процесс, всегда индивидуальна и малоуправляема, тем более со стороны. Когда издатель выбирает книгу для публикации, конечно, ему привычнее работать с текстами, которые можно вписать в какой-то контекст, объяснить через что-то понятное и тем самым продвинуть на переполненном книжном рынке. Отсюда популярность книжных серий и среди издателей, и среди читателей.
Навигация в литературе довольно сложна. Маркеры субъективны и не всегда действенны. Читателю, который не слишком погружен в современный литературный процесс, бывает довольно сложно сориентироваться в многообразии книжной продукции. И вот тут серии становятся одним из работающих инструментов. Они создают единообразие на книжных полках и говорят о том, что, если вам понравился какой-то роман, например Алексея Иванова или Виктора Ремизова, велика вероятность, что и другие его книги не разочаруют.
Серии бывают не только авторскими, но и жанровыми или тематическими. Их задача – обратить внимание аудитории на новые имена. В таких сериях за локомотивом известного автора чаще всего идут начинающие, в которых поверил издатель. Кроме прямой маркетинговой цели, такие тематические подборки преследуют и косвенную: они создают пространство для дискуссии на фестивалях, ярмарках или страницах СМИ, вводят литературные произведения – и новые писательские имена – в круг обсуждаемых тем.
Книги
Алексей Иванов, «Золото бунта», «Географ глобус пропил»
Софья Асташова, «Вероятно, дьявол»
Успешный успех: каков он для начинающего автора?

Вопрос тоже относительный. Можно мерить понятными рыночными категориями: продался первый тираж, вышел на допечатку – значит успешен. Можно говорить о присутствии в медиапространстве: сколько блогеров и СМИ написали о книге. Можно оценивать участие в презентациях, книжных ярмарках и фестивалях. А для кого-то уже сам факт издания и присутствия книги в магазинах – успех и сбывшаяся мечта.
Быть всегда, везде и всюду: культура литературных фестивалей

Традиция региональных фестивалей в последнее время набирает обороты. Если еще несколько лет назад всё более-менее заметное и значимое происходило только в Москве и иногда в Санкт-Петербурге, то на 2024 год запланированы три десятка достаточно крупных книжных событий по всей стране. Это важная тенденция включения литературы в культурную жизнь страны, внимание к регионам с точки зрения и местных авторов и издателей, и диалога между писателями и читателями. Локальная идентичность – один из трендов современной литературы, региональная жизнь становится темой произведений, города по всей России – местами разговора о ней.
Книги
Василий Авченко, «Дальний Восток: иероглиф пространства. Уроки географии и демографии»
Екатерина Манойло, «Отец смотрит на запад»
Надя Алексеева, «Полунощница»
Как живут книги после экранизаций и живут ли вообще

Дефицит новинок зарубежного кино повлек за собой развитие российского. Производители активно ищут материал для экранизаций, проводится школа кинокритики в Ясной Поляне и тематическая резиденция в Доме творчества Переделкино, запускается программа «Автор» для писателей, которые хотят стать сценаристами. Наконец сцепка между кино и литературой начинает хоть как-то работать. Да, не всё на этом пути оказывается просто: писатели и кинопродюсеры по-прежнему живут в довольно разных вселенных, но теперь можно по крайней мере говорить о начале диалога.
Если книга выходит на экранизацию серьезной компанией, это существенно сказывается на ее тиражах. Появились понятные механизмы взаимодействия между издателями и кинопродюсерами: кинообложки, встречи с писателями под премьеры, выкладки в книжных магазинах, баннеры на маркетплейсах, реклама на некнижных площадках – все это увеличивает тиражи в десятки раз. Одним из самых ярких примеров последних пары лет стал выход фильма «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова. Несмотря на то, что книга впервые вышла в начале 2000-х и с тех пор всегда была на полках книжных магазинов, продажи в период кинопроката составили десятки тысяч экземпляров.
Сейчас под выход фильма по роману «Мастер и Маргарита» уже зафиксирован всплеск продаж Булгакова, который, казалось бы, и так есть почти в каждом доме.
Книги
Алексей Иванов, «Сердце Пармы», «Общага на крови», «Пищеблок»
Михаил Елизаров, «Библиотекарь»
Мршавко Штапич, «Плейлист волонтера»
Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»
Ольга Птицева, «Там, где цветет полынь»
Майк Омер, «Внутри убийцы»
Какие новинки ждет Татьяна Соловьева

Издатели уже анонсировали планы на 2024 год. Там много книг, которые имеет смысл ждать. Назову лишь несколько.
«Тоннель» Яны Вагнер – сутки в заблокированном тоннеле под Москвой-рекой, модель общества перед лицом большой катастрофы.
«Литораль» Ксении Буржской – история противостояния двух женщин в небольшом заполярном городке, которое неизбежно должно закончиться победой лишь одной из них. Но можно ли будет считать это победой?
«Мятежный ангел» Эмира Кустурицы – автофикшн от знаменитого режиссера, исследующего тему творческой свободы и самовыражения, история путешествия рассказчика вместе с Петером Хандке через пол-Европы в стокгольмскую Нобелевскую академию.
«Город победы» и «Нож» Салмана Рушди – новый роман и продолжение автофикшна «Джозеф Антон» о нападении на писателя обещают несколько часов упоительного чтения.
«Дети в гараже моего папы» Анастасии Максимовой – жуткий, но невероятно увлекательный триллер о подростке, который внезапно узнает о том, что его отец – маньяк, убивавший детей.
Читайте и слушайте все книги из статьи! 👇
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН 7719571260, erid: LjN8KCVkD