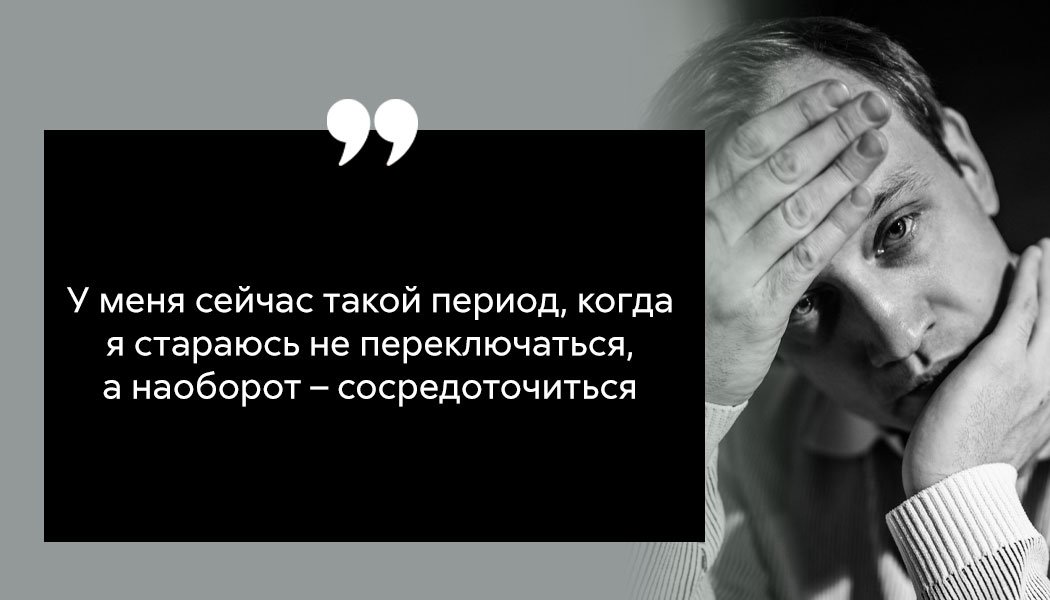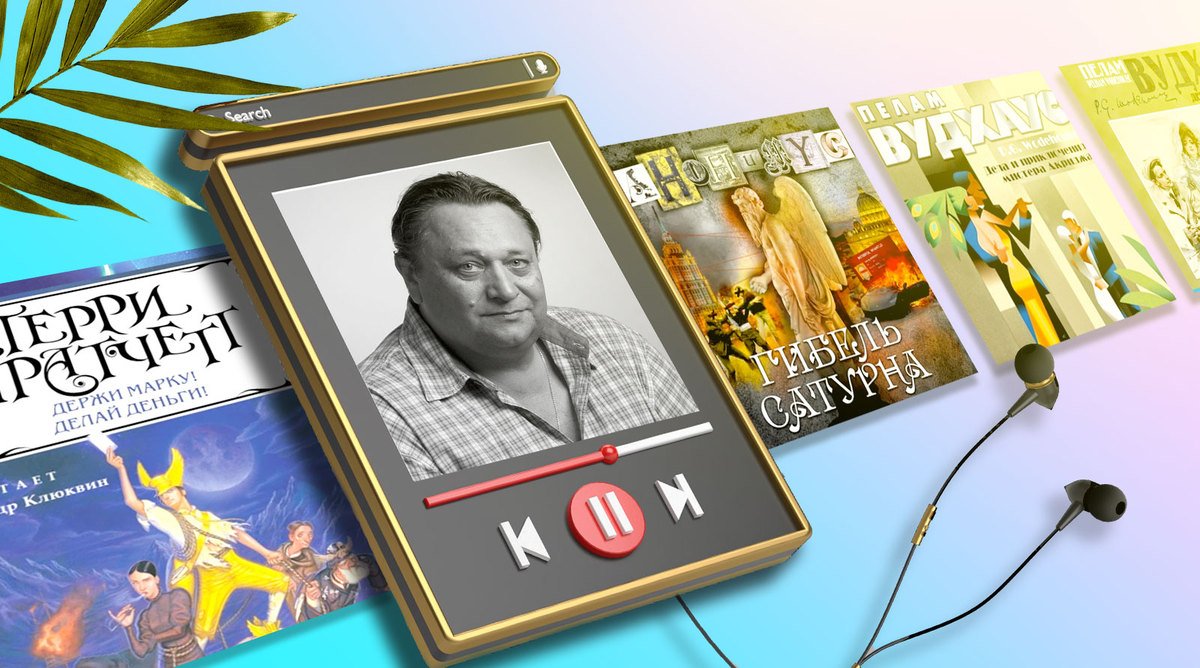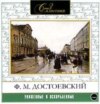Михаил Тройник: «"Елтышевы" для меня как "Груз 200" Балабанова»
Текст: Марина Зельцер, фото: Ирина Заргано
Михаил Тройник сегодня один из самых востребованных актеров своего поколения при том, что он пришел в профессию не сразу, так как в Школу-студию МХАТ поступил, уйдя с четвертого курса института имени Баумана. Заметили его после громких «Чик» с ролью священника, потом был непредсказуемый и обаятельный шалопай Леха в полюбившемся всем трагикомическом сериале «Иванько», где его работа, особенно во втором сезоне восхитила даже коллег по площадке. О его широких возможностях и глубине погружения в образ говорят и последовавшие дальше герои в сериалах «Комплекс бога», «Правда», «Папаши в бегах», «Этерна» и только что вышедших «Я знаю, кто тебя убил» и «Первый класс». А за спиной Михаила Тройника еще и роли в Гоголь-центре и сегодняшняя работа в спектакле «Последнее лето» в Театре Наций.

Миша, я тут перечитывала «Утиную охоту» Вампилова и подумала, как интересно мне было бы тебя увидеть в роли Зилова. С одной стороны, понимаю и чувствую, что это твоя роль, а с другой, до конца не представляю, каким бы ты был...
Зилова я, кстати, играл в 2018 году на курсах Светланы Ефремовой, актрисы и профессора Калифорнийского университета. Мы с Марусей Зыковой готовили сцену, в которой он врет жене, что ездил куда-то, а та ему говорит, что его видели в городе, и Зилов потом узнает, что Галина сделала аборт. И вначале он начинает обвинять ее, а потом пытается соблазнять, заставляя вспоминать в деталях их первый романтический вечер. Я долго не мог понять, почему он так среагировал на ее сообщение. А потом понял. Мы же все настолько уверены в своих проявлениях, все знаем про себя, но, когда реально сталкиваемся со сложной ситуацией, порой ведем себя странным неуместным образом, и для меня это было открытием. А признак высокого искусства, на мой взгляд, именно в парадоксальности. Утиная охота для Зилова – опора, как и уверенность в том, что с женщинами у него все хорошо. Соблазнение для него столь естественно, что если бы у него прокололось колесо, он бы тоже начал соблазнять кого-то. Но это все от слабости. Когда он не знает, как реагировать, начинает соблазнять. А с женой это не работает. Меня тогда очень поразила пьеса, хотя до того момента «Утиную охоту» и вообще пьесы Вампилова я воспринимал как что-то чуть ли не этнографическое, истории про глубинку, какую-то тайгу. В общем, он как драматург долгое время лежал у меня на внутренней полке, а сейчас я действительно очень хотел бы сыграть Зилова. Сыграть человека, который, по сути, находится в депрессии, а думает, что он контролирует ситуации, жизнь. Эта пьеса так гениально написана Вампиловым, что в ней ты можешь и взлететь и приземлиться, она ведет тебя в бессознательное, а потом возвращает в реальность.
Вампилова часто сравнивают с Чеховым...
Не знаю. И у меня с Чеховым очень сложный эмоциональный диалог. Я играл в Школе-студии МХАТ отрывки из «Анюты», «Жениха и папеньки» и даже Лопахина, и это никогда не получалось. Правда, мне понравилось, как я очень тихо произносил монолог Лопахина: «Кто купил вишневый сад? Я купил...» И сколько я посмотрел спектаклей по Чехову, но ничего в моем восприятии не менялось. При этом Антон Павлович мне безумно интересен, но я не понимаю, что я чувствую.
То есть никакой спектакль или фильм по Чехову тебя не трогал?
Меня трогает какая-то его парадоксальность, но я не верю тому, что вижу, слышу. Например, когда смотрю «Неоконченную пьесу для механического пианино», не понимаю, как человек может так серьезно говорить: «Мне тридцать пять лет. Все погибло, все! Я ноль! Я ничтожество! Лермонтов восемь лет как лежал в могиле! Наполеон был генералом! А я ничего в вашей проклятой жизни не сделал! Ничего!.. Где мои силы, ум, талант?! Пропала жизнь!»

Но это не слова Чехова, монолог Платонова Адабашьян дописал, правда, абсолютно в теме, так как похожий у Войницкого в «Дяде Ване» и не только...
Мне непонятна сама тема, подобные терзания, о которых говорят такими словами. Я на это смотрю как на Папуа – Новую Гвинею, на что-то искусственное. Размышляя, я провожу параллель с историей Эйфелевой башни. Жил суперпрактичный инженер Эйфель, который всю жизнь строил мосты и акведуки, и вдруг он конструирует башню, абсолютно непригодную ни для чего, на которую уходит куча денег, огромное количество металла и сил рабочих. В итоге мы имеем то, что имеем, – символ Парижа, но вначале же башню критиковали, творение Эйфеля активно не принимали. Вот для меня пока так с Чеховым. Он тоже был очень практичным человеком, прекрасным врачом, так почему его герои произносят такие странные речи и так серьезно относятся к тому, что говорят. Но я очень хочу верить, что у меня с Чеховым произойдет так, как произошло у французов с Эйфелевой башней, потому что, как правило, когда в моей жизни идет сильное отторжение чего-то, то потом это приходит к большой любви. Чехов – единственный автор, от которого я ощущаю холод, не понимаю, к чему тут подключиться. У нас в Школе-студии преподавал Анатолий Миронович Смелянский, и он читал лекции про историю Художественного театра, которая неразрывно связана с Чеховым. И вот я помню, как он рассказывал, что когда Станиславский разбирал «Чайку», то на полях написал, что Треплев никогда не станет Тригориным. Эта фраза меня заинтриговала.
Я не согласен с ней на бытовом уровне, считаю, что у художника есть этапы развития: сначала он Треплев, потом Тригорин, то есть можно не разделять понятия чистого искусства и успеха. Но такой тонкий великий человек, как Константин Сергеевич, написал так, и мне было бы очень интересно узнать, понять, что он имел в виду. И я хотел бы сыграть в спектакле о том, как Станиславский ставит «Чайку». Если бы кто-то снимал фильм или ставил спектакль о том, как зарождался Художественный театр, что Станиславский переживал в этот период, то я был бы счастлив в этом поучаствовать. Кстати, недавно у меня был разговор с одним очень крутым продюсером, и он упоминал, что сейчас берут какого-то молодого режиссера, дают ему проект, а потом он переходит в другое русло. То есть только что он был, условно говоря, Треплевым, который снимал короткие метры, и вдруг уже снимает серьезные сериалы, полные метры и, по сути, становится Тригориным. Продюсер так легко жонглировал этими именами, ну был Треплев, стал Тригорин, все же очевидно... А я ему рассказал, что написал Станиславский. Он мне ничего не ответил, но, может быть, задумался. Это тонкий образованный человек, многое повидавший, и он не обязан знать таких подробностей о разборе Станиславского. И я бы не знал, если бы Смелянский не рассказал нам. Но меня этот момент очень занимает. Я сейчас вспоминаю свои этюды на первом курсе Школы-студии МХАТ. Если бы мне сейчас захотелось их сделать, у меня бы не получилось, сколько бы я ни старался, потому что они были сумасшедшие, наивные и чистые в этом безумии. Но в то время я еще не мог освоить какие-то азы актерского мастерства. Однако я же как-то прошел этот путь или у меня совсем другая история? Для меня тут действительно большая загадка.
Думаю, что Станиславский так писал, учитывая личностные черты Треплева и Тригорина. Миша, скажи, а если сценарий или пьеса очень хороши, нужно ли тебе обращаться при работе над ролью еще и к другому материалу, я не об историческом или биографическом?
Нет, если материал прекрасно написан, не нужно. Другое дело, что такое происходит крайне редко, особенно в кино. И там ты вообще испытываешь огромный стресс, не до каких-то поисков. Ищешь ты в театре, так что сцена – очень важная штука для актера. А в кино работает монтаж, и роль ты набираешь бисером из разных художественных средств.
А готовясь к театральным ролям, ты глубоко погружаешься в литературоведение, например? Я иногда читаю какое-то произведение и параллельно люблю залезть в какие-то статьи, например, по поводу «Евгения Онегина». И это бывает очень интересно...
Когда мы готовились к «Мертвым душам» в Гоголь-центре, я тоже изучал литературоведческие материалы. Почерпнул оттуда, что это Пушкин посоветовал сюжет поэмы Гоголю. А еще я узнал, что фамилия Чичиков пошла от слова «чичик», что означает «хитрый вороватый кот, прохвост».
А по второй версии это значит «франтовски», «щегольски», «модно», и это всё черты Чичикова. Правда, ты там играл Ноздрева...
Да, Ноздрев – одна из моих первых ролей в Гоголь-центре. Я пришел туда в 2013 году, а в 2014-м мы выпустили «Мертвые души». Для меня это был очень важный спектакль, в том числе потому, что Ноздрев далек от меня самого по психофизике, он очень быстро переключается, а я всегда глубоко погружаюсь в одну тему и трудно совершаю повороты в другую сторону (смеется). И первое время на репетициях я никак не мог отключить мозг, не оправдывая себе все подробной психологией. Это была, что называется, роль на сопротивление, тренинг, который мне крайне тяжело давался. Я долго испытывал во время спектакля огромное напряжение, потому что никак не мог освоить внутренний рисунок. Зато после Ноздрева я стал во многих ролях использовать переключение ритмов как прием, но им надо овладеть, это ремесло.

Ты говоришь про быстрое переключение, и у меня сразу возникает твой Леха из сериала «Иванько», которого ты блестяще сыграл. И этот прием, мне кажется, особенно ярко проявляется во втором сезоне...
Я только хотел сказать про Леху (улыбается). В кино с кондачка так невозможно сыграть, к этому надо готовиться. И с «Иванько» мне «Мертвые души» очень помогли.
Когда так тяжело дается роль, но она интересная, тебе хочется идти и играть или нужно почти буквально заставлять себя выходить на сцену?
Роль Ноздрева игралась неровно. Бывало, случался очень крутой спектакль, когда удавалось сложить пазл, соединив меняющийся ритм, текст Гоголя с его поэтикой и нынешнюю реальность. И тогда я испытывал состояние полета. Другое дело, что это было редко, но я помнил, что здесь есть потенциал к полету. А вообще, чем поэтичнее текст, тем его труднее освоить, но если ты сделал это, то можешь прийти к невероятному результату. И я знал, что через какое-то количество спектаклей случится прорыв, которого я ждал как праздника, и он происходил. А на пути к этому снова понимал, что надо подтянуть винтики и поменять шины, потому что спектакль как скоростной болид, который все равно поедет. «Мертвые души» были для меня зоной роста, где я получал и кнут и пряник.
А ты не спрашивал у кого-то из своих друзей, знакомых, которые попадали на такие вот твои разные спектакли, чувствовали ли они это?
В те дни, когда у меня шло совсем уж тяжело, было как с несмешными клоунами, когда ты понимаешь, что люди шутят, но это тяжело смотреть (смеется). Я, конечно, не падал ниже какого-то уровня, но близкие люди чувствовали, когда я выдавливал из себя состояние, а когда это был просто полет.
Сколько времени держалось хорошее состояние после «полетного» спектакля и плохое после неудачного?
В то время у нас в театре был очень жесткий график, постоянно что-то игралось и репетировалось, и к дисциплине серьезно относились. Так что все это не позволяло тебе раскиснуть, ты не мог уйти на несколько дней в депрессию. Хотя, конечно, неудача придавливала, и какое-то время было ощущение, что нужно все начинать заново. Заново наблюдать за людьми, заново смотреть какие-то фильмы, заново думать о роли, заново читать еще Гоголя и изучать что-то про него. А вот состояние эйфории, как правило, длилось до утра, это можно сравнить с крутой вечеринкой (смеется). После такого спектакля ты чувствовал такую легкость, что шел по улице и обращал внимание на каких-то людей, которые сидят в кафе, рассматривал листики на деревьях, и переход к Курскому вокзалу становился райским местом. Тебе все было интересно, как ребенку.

А кого бы ты сейчас выбрал играть в «Мертвых душах»?
Чичикова, потому что я не знаю, как его играть. Всегда легче зацепиться за какую-то страсть или грань: жадность, скупость, льстивость, за две-три вещи, а как быть с персонажем, у которого нет основополагающей черты. Какой Чичиков, вообще непонятно. Есть гипотеза, что Гоголь писал «Мертвые души» в Италии, и потому воспринимает Россию глазами иностранца. Режиссер Анатолий Васильев говорил, что Чичиков – иностранец, который приехал в Россию. С одной стороны, это понятная интерпретация, но, мне кажется, она немного упрощает смысл, который там заложен. Тот же Васильев писал, что по Станиславскому понятно, как играть Чехова, а вот как Гоголя – непонятно. Как играть человека, который составляет ревизию всем этим страстям. А у него какие страсти? Почему ему все так доверились? Это очень сложная задача. Но и в те редкие моменты, когда у меня Ноздрев получался, тоже было не совсем ясно, почему вдруг получилось, как получилось. Это поэзия, там работают какие-то другие законы.
Есть еще один автор, который тебя сопровождает давно, это Достоевский...
У него тексты тоже, с одной стороны, психологические, а с другой, это всегда поток сознания. Я недавно смотрел фильм Филиппа Гранрийе «Новая жизнь», и это – дрожащая камера, которая показывает тебе только очень крупный план: глаз, лба, щек, то есть рассматривает человека невероятно подробно. И вот то же самое, хоть это очень грубое сравнение, можно сказать о Достоевском. И это, как у нас говорят, уже область психического начинается.
У Достоевского герои всегда существуют на грани, на надрыве, он, кстати, это слово и придумал, а некоторые в буквальном смысле не совсем нормальны, как тот же Мышкин, со справкой...
Я это не называю ненормальностью. Если каждого человека так укрупнить, то такое увидишь... В жизни этот «крупный план» проявляется порциями, то есть ты не можешь все время существовать в состоянии: «Где я? Где бог? Люблю ли я? Тварь ли я дрожащая или право имею?». А у Достоевского идет непрекращающийся диалог с такими вопросами, вот этот «крупный план».
У Достоевского, как мне кажется, произведения можно разделить на два жанра. Все его главные романы построены на детективном сюжете со страстями, надрывом, а есть ранние, как «Униженные и оскорбленные», «Бедные люди», и это мелодраматические, на мой взгляд, истории...
Я детективную линию в его произведениях воспринимаю как номинальную. А «Униженные и оскорбленные» – это тот же Достоевский, и там есть, с одной стороны, и псевдо-структурный сюжет, а с другой, это тоже социальная история. Просто сюжет отходит на второй план, как в «Карамазовых», например, когда уже неважно, кто убил по факту. Раньше и я думал, что ранний Достоевский отличается от себя позднего своей мелодраматичностью, а потом понял, что это не так. В героях «Униженных и оскорбленных» им заданы абсолютно те же вопросы. Отец якобы выгоняет свою дочь из дома, и непонятно почему. Как и то, из-за чего Митя Карамазов бьет отца, то ли из-за денег, то ли из-за Грушеньки, то ли из-за чего другого. И я был рад, что изучил раннюю часть творчества Федора Михайловича. Замечательно, что этот спектакль случился, потому что на курсе я играл в «Братьях Карамазовых» Митю и Алешу. Это был спектакль по этюдам, и мы менялись ролями.
Работа в «Карамазовых» была ведь очень важной для тебя...
Да, хотя уже до этого у меня были какие-то победы (улыбается). Мы сделали с Виктором Анатольевичем Рыжаковым «Карамазовых», а потом поехали в Старую Руссу играть его, и там что-то произошло. Я не мог представить себе, что Достоевский писал здесь. Конечно, место сильно изменилось со времен писателя, во время войны город был практически полностью уничтожен, но дом прототипа Грушеньки, где висят бельевые веревки, кабинет Достоевского – терпкий с черным деревом, бархатом и невероятно темные ночи сделали свое дело. Была в этом какая-то «достоевщина», инфернальность. И роль заиграла у меня совершенно иначе.
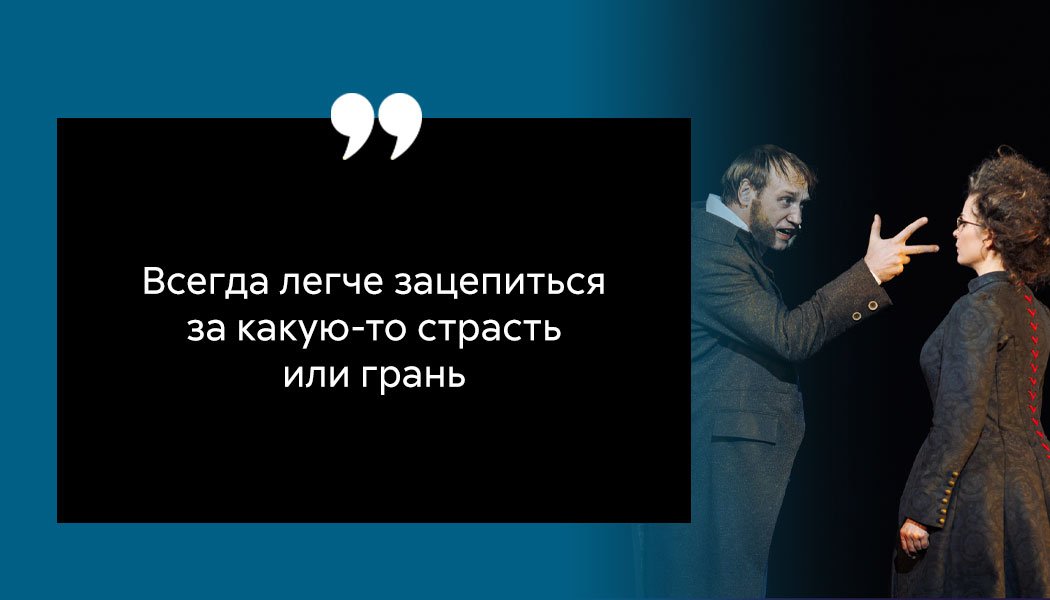
Вот как может атмосфера, да многое другое повлиять на актера. Прочла в одном из твоих интервью, что ты, как и Соня Лебедева, тоже составляешь плейлист для работы над персонажами...
Да, составляю. Это внутренняя актерская кухня. Неважно, что ты делаешь, главное, чтобы это приносило результат. Например, мы играли «Ивонну, принцессу Бургундскую» по Гомбровичу, а он очень увлекался Шекспиром, поэтому у него и принц такой, как Гамлет, он идет против родителей и против системы. И репетируя, я слушал песни девяностых. Но дело не в протесте, а в молодости, в юности. В одном плейлисте могут быть разные жанры, от шансона до классической музыки. Ты мог услышать песню и испытать какое-то чувство, а потом вспомнить его. Сейчас в период съемок «Этерны», а это стилизованная костюмированная история 17 века, адаптация, ассоциативно для меня картина Веласкеса «Сдача Бреды», я слушал Генри Пёрселла, барочного композитора, потому что действие в фильме происходит в то время. Но иногда вообще непонятно, как это все работает. Так можно сказать и про одежду, и про фильмы, и про запахи. Просто музыка удобна тем, что ее можно послушать прямо перед сменой.
Запахи – очень сильная вещь в эмоциональном, ассоциативном смысле. А тебе действительно какой-то запах помог найти ключ к роли?
У меня с «Медеей» в Гоголь-центре такое было. Я очень ответственно готовился к роли Ясона, поехал в Грецию, арендовал машину, ездил по городам там. И я очень хорошо помню запах выжженной земли, соломы. Для меня Греция почему-то в тот момент открылась как дерево, растущее в камнях, как солома, которая пытается удержаться за эти камни, сгорая под солнцем. Возникла какая-то знойная тема вопреки морю и ярким краскам.
А до этого ты читал трагедии? Вы же должны были проходить в Школе-студии их. Ты был в восторге после выпуска «Медеи», а я вот не могу читать их и не люблю смотреть спектакли по древнегреческим трагедиям...
У меня было ровно такое же ощущение перед началом работы. Когда я прочитал пьесу первый раз, вообще не понял, зачем ее ставить. Мы же все знаем миф о Медее, о том, что она убила своих детей, но зачем писать столько страниц до и после. Я думал, что это просто вода, что там вообще нет никакой драматургии, только патетика: «О, Боги! О, Зевс, знаешь ли ты?» Но оказалось, что это очень скрупулезная, очень последовательная история. Там нет ничего лишнего, там выверено и важно каждое слово. История о том, как люди, которые по каким-то земным законам вообще не должны быть вместе, потому что они как скрещивающиеся прямые, как две дороги, одна под эстакадой, а другая над ней, и они никогда не пересекутся, потому что находятся на расстоянии друг от друга. Ясон и Медея из разных миров, и, хотя она убила детей, судьба все равно взяла свое, они так и не услышали друг друга и за всю пьесу ни разу не соединились ментально. И здесь заложена такая мудрость, что я по-другому взглянул на все эти трагедии.
Выпуск, знаю, дался тебе нелегко...
Да, после премьеры я недели две отходил от роли. Я спал или просто лежал, смотрел в потолок. Но у трагедий странный эффект, их безумно тяжело играть, но потом испытываешь невероятный кайф, какое-то очищение, будто бы шкуру с себя содрал. Каждый раз перед «Медеей» я переживал сильнейший стресс, а после спектакля чувствовал, что у меня началась новая жизнь.
Среди твоих любимых книг я обнаружила роман Томаса Манна «Иосиф и его братья». Тоже не самое увлекательное чтиво, на мой взгляд...
А для меня это, наверное, единственная книга, которая была просто расслаблением для ума, я себя вообще не заставлял читать. И в это время у меня уходил весь хаос из головы. При очень жесткой немецкой структуре, что по идее должно было быть скучным, мне было совершенно легко читать, и я не понимал почему. Наверное, все дело в красоте. А так как роман очень длинный, полторы тысячи страниц, то я долгое время находился в очень светлом и ясном сознании, как будто делал в голове генеральную уборку.
В твоем списке есть еще и Пруст. Это чуть лучше, чем «Улисс», над которым все иронизируют, но близко к этому...
Да, читать Пруста было мучительно (смеется). Но в тот период я сказал себе: «Я должен его прочитать», – и устроил себе такое испытание.
Зачем, для чего?!
Чтобы присвоить себе эмоцию такой тонкости, когда ты можешь долгое время плести что-то из бисера, а не рубить дрова, хотя рубить дрова тоже хорошо. Из Пруста прикольно читать цитаты. И мне нравится иногда открыть его и почувствовать замедленное состояние героя, перечитав, например, как он просыпается.
А мне кажется, лучше прочитать в очередной раз зарисовку утра Онегина...
Про утро очень много книг с зарисовками. Я не знаю почему, не могу до конца это объяснить, я очень люблю «Руслана и Людмилу», а вот к «Онегину» более равнодушен.
И что еще у Пушкина ты любишь?
Так, чтобы перечитывать, пожалуй, только «Руслана и Людмилу».
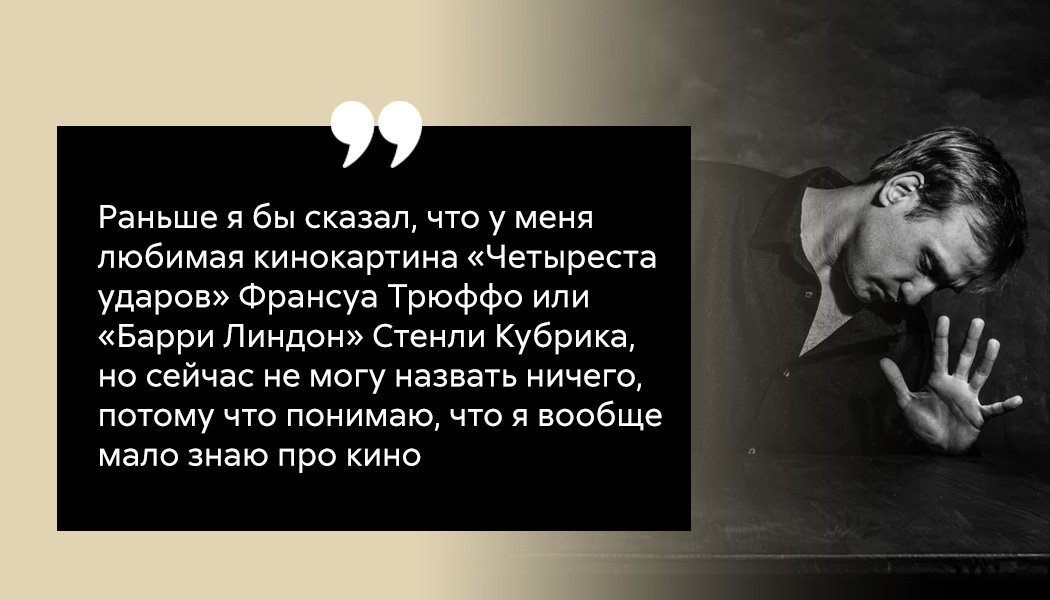
А какие-то фильмы пересматриваешь?
У меня сейчас благодаря Московской школе нового кино происходит какая-то профдеформация, я открываю такой мир кино, про который вообще бы никогда не узнал. Это и советское кино, и зарубежное, и авторское, и 20-х годов ХХ века, и 30-х. Я чувствую себя ребенком, который пошел в первый класс или в первый раз приехал на море. Недавно посмотрел документальный фильм Андре Соважа «Этюды о Париже», «Чрево Парижа» Кауфмана о парижском рынке и «В Марсельском порту» режиссера Ласло Мохой-Надя. Мы разбирали «Ночь» Антониони, и я понимаю, что никогда в жизни под таким углом не рассматривал бы этот фильм. Раньше я бы сказал, что у меня любимая кинокартина «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо или «Барри Линдон» Стенли Кубрика, но сейчас не могу назвать ничего, потому что понимаю, что я вообще мало знаю про кино. Я недавно был в Русском музее в Петербурге и созерцал картины Левицкого и Рокотова, а раньше прошел бы мимо, думая, что это скукота, какие-то портреты статс-дам. Наверное, у меня сейчас происходит переоценка ценностей, и я непредвзято отношусь ко всему, открыто смотрю на мир и произведения искусства.
Ты в детстве и юности симпатизировал каким-то литературным героям, может быть, хотел быть на кого-то похожим?
В детстве и юности я читал не так много художественной литературы, потому что плотно занимался математикой и физикой, учился в математическом классе, но, наверное, я себя ассоциировал с какими-то бунинскими героями, например, с белым офицером из рассказа «Холодная осень».
В школе я прочитал «Мастера и Маргариту», может быть, могу так сказать и о Мастере. Недавно, снимаясь в «Этерне» с Евгением Сидихиным, я вспоминал, как в раннем школьном возрасте восхищался фильмом «Волчья кровь», где он снимался (смеется). Это какой-то вестерн про революционное время, я смутно помню сюжет, но в памяти осталось, что Сидихин там был прямо герой-герой, и мне его персонаж очень нравился. Я Евгению рассказал об этом. Но почему мальчик хочет быть похожим на персонажа фильма «Волчья кровь», непонятно, это очень странный выбор. И я так переживал, когда там шли перестрелки (смеется).
Думала, что как от мальчишки, услышу «Свой среди чужих, чужой среди своих»...
Я, к сожалению, этот фильм, посмотрел уже в Бауманке, лет в двадцать. И тогда он меня, конечно, очень впечатлил.
А какие-то героини тебе юному нравились?
Мне нравилась Наталья Орейро в сериале «Дикий ангел» (хохочет).
На твое восприятие произведения или вообще писателя влияет ли его личность?
У меня такое было с Некрасовым, когда мы изучали «Кому на Руси жить хорошо», а я узнал, как он втыкал гвозди в карету, чтобы крестьянские дети не забирались в нее. Меня это покоробило, но в целом я не очень понимаю эту связь. Известны какие-то факты про кого-то, но, отражают ли они полностью реальность, мы не знаем. Меня, скорее, поражает то, что Марсель Пруст писал «В поисках утраченного времени» двадцать два года, я не понимаю, как это возможно.
Пушкин семь лет писал «Евгения Онегина», переделывая раз за разом...
Вот это меня удивляет, а не моральная сторона вопроса, хороший человек был писатель или нет. Пруст написал книгу про мальчишеское, трепетное, но я не знаю, чтобы написать это, нужно ли самому быть таким же? Мне кажется, наоборот, нужно быть суперрациональным, суперсобранным, а если автор будет таким же, как герой, то он не то что не напишет ни страницы, он просто не встанет с кровати. Но, с другой стороны, откуда Пруст берет это все тогда? Вопрос.

Можешь ли что-то сказать про современную литературу?
Она для меня закончилась, к сожалению, с выпуском из Школы-студии МХАТ. Во время учебы, благодаря Марине Станиславовне Брусникиной и Дмитрию Петровичу Баку, я познакомился с Елизаровым, Шишкиным, Прилепиным и с очень многими современными поэтами. Марина Станиславовна делала вечера в основном по поэзии, хотя и по прозе тоже. В тот период я примерно ориентировался в современной литературе, и роман Сенчина «Елтышевы» был, наверное, самым мощным потрясением в ней. А с совсем новыми именами у меня вообще пробел.
А чем тебя пробили «Елтышевы»?
Я до конца даже не понимаю, чем роман меня так пробил, как и «Груз 200» Балабанова, где такое дно, убийства и прочие ужасы. Наверное, какой-то очень точной нотой, рассказывающей о девяностых, хотя там много депрессивного и накрученного. Но сам по себе весь этот кошмар меня не трогает, а вот когда я вижу, например, проезд на фоне труб завода, то очень чувствую эту ноту времени. И в «Елтышевых» незамысловатый, довольно банальный сюжет преподнесен точным хирургическим способом. Отдаленно это похоже на сериал «Я знаю, кто тебя убил», который только что вышел, сценарий написан по современному роману Любови Бариновой «Ева», здесь основное действие происходит тоже в конце девяностых – начале двухтысячных. В «Еве» не так много депрессняка, как в «Елтышевых», это очень разные произведения, но когда я это смотрю или читаю, испытываю ощущение запертости, тюрьмы, прямо чувствую, как на меня давит плита. То есть, с одной стороны, я ненавижу этих героев и презираю, с другой, не могу их презирать и ненавидеть. И это ощущение от тех лет для меня абсолютно новое, совсем не как о романтических годах.
Если ты испытывал такое неприятное ощущение плиты, тюрьмы, не было ли желания бросить читать это?
Роман действительно тяжело читать. А почему я его все равно читал? Потому что это очень круто написано и меня захватывало то, что и сам писатель задает себе вопросы. И Сенчин не давит на тебя, как Достоевский, он просто говорит, что от таких людей, которых видел в жизни, испытывает такое же чувство, как и ты. И от этого ощущаешь поддержку, что ты не один во всем этом.
То есть Достоевский для тебя дидактичен, потому что он все это знает и учит тебя?
Достоевского мне трудно читать, потому что он как раз «тварь ли я дрожащая или право имею», и ты вместе с героем все сверлишь сам, думаешь о том, что мог бы кому-то ответить, почему не сказал что-то или не сделал. От этого возникает давящее ощущение. Достоевский не специально это делает, но он просверливает тебя внутренним червем. «Я не органный штифтик, я не фортепианная клавиша», а Сенчин просто наблюдает за миром как будто со стороны и очень последовательно и точно описывает то, что видит. При этом не дает никаких ответов.
У тебя возникает ощущение, что когда Сенчин писал, он с этим разбирался, а Достоевский писал о том, в чем уже разобрался и в чем уверен?
Наверное, Достоевский тоже не во всем разобрался, слишком много тайн сопровождает его героев. Но Федор Михайлович скорее говорит про внутренний мир человека, а Сенчин про внешний, про срез времени.

Ты упомянул Елизарова. Открыл его с «Библиотекарем»? Удивительно, что потом ты сыграл в сериале по этому роману...
Да, я открыл для себя этого писателя с «Библиотекарем». Книга на меня произвела очень сильное впечатление, я никогда не думал, что литература может быть такой современной. Я был удивлен, когда узнал, что роман будут экранизировать, и просто обалдел, когда меня утвердили (смеется).
А ты заново перечитывал роман для съемок или уже только сценарий?
Я в то время читал его новый роман «Земля». Мне было интересно понять Елизарова нынешнего, почувствовать, как его нота звучит сейчас, потому что «Библиотекарь» вышел в 2007 году.
Это помогло в работе?
Мне кажется, да. Был еще мистический момент – главный герой романа «Земля» из города Рыбнинска, то есть, как я понимаю, это аллегория с Рыбинском. Наверное, я еще и поэтому читал роман: мне казалось, что это как-то судьбоносно связано с моей жизнью, ведь я из Рыбинска. И когда Михаил Елизаров пришел на премьеру «Библиотекаря», я ему сказал: «Здравствуйте! Я читал «Землю», ваш герой из Рыбнинска, а я из Рыбинска».
Снимаясь в «Библиотекаре, ты как-то иначе посмотрел на роман или было такое же впечатление и восприятие героев?
Во-первых, сценарий и сериал даже стилистически отличаются от книги. Во-вторых, я во время съемок прочитал одну из книг времен соцреализма. Снимали мы в Подмосковье, и у нас там была реальная библиотека с подобными книгами. И я оттуда взял одну книжку домой и читал ее, как главный герой «Библиотекаря». Оттуда и правда прет какая-то энергия. Это не просто книги, это целые пласты советской культуры с непроявленной внутренней силой. Бывает, приезжаешь в какой-то город, попадаешь прямо в советскую гостиницу и оказываешься в мире, в котором бы ты никогда не оказался, и вдруг чувствуешь весь объем этого мира. А тут это просто решено через книги. Ну и, конечно, без иронии в сериале не обошлось. А для меня это была серьезная работа, очень затратная эмоционально. Мой герой – непростой человек, у которого еще и полностью переворачивается жизнь. Но, когда ты играешь сложную и интересную роль, увлекаешься, и это придает тебе силы.
Ты заканчиваешь обучение в Школе нового кино, уже снял короткий метр. А сам не думал замахнуться на фильм о Станиславском и Художественном театре?
Гипотетически такое возможно, но для этого надо очень много самому изучать и потратить огромное количество времени.
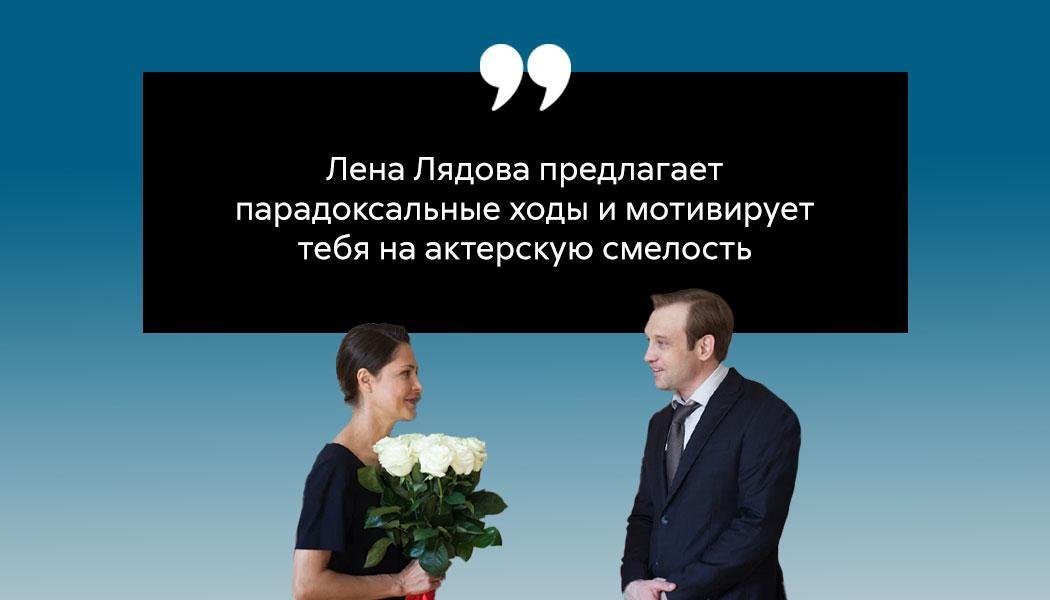
Ты очень много работаешь, еще и учишься. А что тебя увлекает, кроме этого, расслабляет, переключает и радует сегодня?
У меня сейчас такой период, когда я стараюсь не переключаться, а наоборот – сосредоточиться. И потом я не скажу, что так устал. На съемках я тоже заряжаюсь, и от материала и от партнеров, как, например, недавно от Жени Крегжде на площадке фильма Алены Званцовой «Свинья и мышь», она прекрасная актриса и очень тонкий и глубокий человек. А еще Женя недавно выпустила спектакль в театре имени Вахтангова с режиссером Владом Наставшевым из Гоголь-центра, так что у нас оказалось много общих тем. Я заряжался от Лены Лядовой, работая на «Первом классе» режиссера Светы Самошиной. Лена – невероятная партнерша и профессионал, она предлагает парадоксальные ходы и мотивирует тебя на актерскую смелость. Кино – это конвейер, и в принципе ты не можешь себе позволить быть непредсказуемым, а Лена дает тебе такое право своим примером. Когда я смотрю в Школе нового кино «Этюды о Париже», я тоже заряжаюсь. Как я провожу время вне всего этого? Есть спорт в моей жизни, и он мне доставляет радость, я стал чаще встречаться с друзьями, езжу к родителям в Рыбинск, а они ко мне. Когда мой фильм взяли на фестиваль в Ханты-Мансийске, я очень обрадовался, так как вообще не ожидал такого, потому что это первая самостоятельная работа, по сути, просто этюд. Вообще я не пытаюсь чем-то поразить, прыгнув, например, с парашюта. Я просто стараюсь жить, дышать, чувствовать. В этом и есть глубина, как мне кажется.
Когда наше интервью уже было готово, Миша поблагодарил меня за него в целом и не только и рассказал интересную историю, которая только что произошла с ним.
«Благодаря нашему разговору, тем мыслям, которые крутились в моей голове, я вдруг неожиданно увидел в одном человеке Соленого (один из героев «Трех сестер» Чехова – прим. ред.). Передо мной, как будто океан развергся, и я прямо понял, как надо играть его, как я бы сделал это, хотя человек был совершенно не похож на чеховского персонажа, которого мы обычно видим на сцене. У меня такое произошло первый раз в жизни. Я даже сейчас говорю, и меня просто переполняет от эмоций».